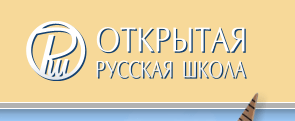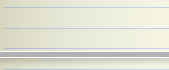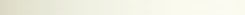20.8.2019
Слова остаются, а смыслы меняются
Слова
у нас
до важного самого
в привычку входят,
ветшают, как платье.
Владимир Маяковский
Есть такая римская пословица: Otium post negotium – то есть «Досуг после работы». Как будто ясно и просто: поработал – заслужил отдых. Сделал дело – гуляй смело. Но есть в этой фразе некая странность для современного уха. Ne – отрицание. Следовательно, negotium – всё, что не досуг. То есть первичным, центральным понятием является otium. Досуг. То есть активность, negotium – служебна и нужна для создания условий покоя. В обществе, где тяжелый труд был уделом рабов, иначе и быть не могло. Досуг – время свободное от суеты, время активного покоя. Время принятия решений. По словам доктора психологических наук Зинченко, «активный покой представляет «самую напряженную из всех мыслимых форм деятельности». И творцы знали это еще до работ психологов. «В закрытьи глаз, в покое рук/ Тайник движенья непочатый». (Осип Мандельштам).
У Пушкина много раз встречаем особое уважительное отношение к покою: «на свете счастья нет, а есть покой и воля», «… праздность моя торжественна», «… праздномыслить было мне отрада». Недаром китайские философы говорят о праздности как времени рождения истинно нового. Внутренняя работа и вправду предшествует разумной активности. Василий Кандинский пишет, что внешнее, не рожденное внутренним, мертворожденно. А физиолог Алексей Ухтомский назвал состояние ожидания (готовности к деятельности) «оперативным покоем», скрытой активностью, вслед за которой проявится активность явная (действие). Ныне тяжелый и нудный труд переходит современным рабам‑машинам. А нам остается истинно человеческая реализация свободы – принятие решений. Тех, которые мы именно принимаем, а не вычисляем, находим. В латыни это два разных слова: одно – «decidere» - идет от «убить» («caede», оттуда же и самоубийство, «suicidium») и перекликается с нашим жаргонным «порешить», другое – «solvere» от «распустить узел». В нашем языке слово «решить» – омоним: большая разница найти решение (существующее) некой задачи и решить (судьбу свою), скажем, в какой вуз поступать. Первое переходит к компьютерам, а сравнивать не(со)измеримые вещи может лишь человек. И ему удобнее заниматься этим в свободное от суеты время. И вот к этому‑то времени стоит нам выработать новое отношение. Не как к отдыху от труда, а как к напряженному состоянию этого самого активного покоя, otium’а.
Пословицу «Dura lex sed lex» обычно переводят как «Закон суров, но закон». Однако смысл ее станет не таким плоским, если вспомнить, что «dura» может также означать «грубый, негибкий». Закон груб, и всегда найдутся случаи, в которых здравый смысл и закон окажутся в противоречии. Например, продать вино человеку накануне его совершеннолетия – формально преступно. Или, допустим, известный заслуженный человек нарушает закон. Народ готов простить. Но пословица предупреждает: да, закон груб, но его надо беречь. Ведь тогда и чуть менее известный человек станет претендовать на прощение. Попустили великой певице, так почему бы не пойти навстречу и великому конструктору? А далее чуть менее великому… Нет границы – нет закона. А там уж на горизонте самое страшное – хаос. Художественная литература полна коллизий справедливости и закона – «по‑человечески» герой прав, хотя грань дозволенного преступил. И строгость нужна, поскольку «Зло явное, терпимое давно,/ Молчанием суда уже дозволено». Однако при жестком исполнении закона оскорбляется чувство справедливости. Тогда от бездушной машины закона спасает высшая сила – милость правителя или случай. Так в процитированном «Анджело», так и в «Капитанской дочке». Пословица охраняет общественное устройство – государство – с его законами, которое, по выражению Бердяева, «существует не для того, чтобы превращать земную жизнь в Рай, а для того, чтобы помешать ей окончательно превратиться в Ад».
И совсем не обязательно, что в этом превращении виновата будет какая‑то личность или даже группа людей. Слишком удобная инструкция «Кто виноват?». Ищи среди тех, кому выгодно то, что случилось, «qui prodest?» – древнее правило. Идет оно из глубины веков. Наши далекие предки считали, в случившемся замешана чья‑то воля. Вредительство. Как пишет Леви‑Брюль в «Первобытном мышлении», в Новой Гвинее «туземец, возвращаясь с охоты или рыбной ловли с пустыми руками, ломает себе голову над тем, каким способом обнаружить человека, околдовавшего его оружие или сети. Он поднимает глаза и видит как раз туземца из соседнего и дружественного селения, направляющегося к кому‑нибудь с визитом. Туземец обязательно подумает, что этот человек и есть колдун, и при первом удобном случае он внезапно нападет на него и убьет».
Ныне человек мало‑помалу усвоил, что в физическом мире существуют объективные законы, что движение планет подчиняется законам механики, и мы больше не приносим в жертву дочь царя, чтобы усмирить шторм… Но в психической и социальной сфере мы пока на уровне первобытных людей. За все отвечают политики. Диктатор. И вот один человек берет на себя грехи целого народа. Или их на него возлагают. Первосвященник Каифа сказал: «лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Лучше, чтобы имя одного народа, немецкого, ответило за все профашистские страны Европы. Двадцатый век таков же, как и век первый. Так авторитарные режимы дают заведомого козла отпущения. А народ прячется за одну, персональную злую волю и остается чист. Потому у демократических стран возникает проблема. Козла отпущения в виде одного полновластного лидера там нет, и грех падает на весь народ. Вот они и не признают вину даже в самых жестоких действиях от уничтожения населения в Африке до ковровых и разных бомбардировок чужих городов ради устрашения «вероятного противника»…
«Хочешь мира – готовься к войне» – «Si vis pacem para bellum». Пословица работала и так: если ты хочешь мира, то на тебя нападут. Смысл такой, что войско и народ должны быть готовы к обороне и по возможности должны нападать сами. Не только технологически, но и морально. То есть какая‑то часть общества должна быть готова вступить в войну без раскачки, и эта часть общества играет важную роль в принятии решений. Но проблема в том, что если ты готовишься, то и сосед «не спит». Это закон природы, природы социальной. С неприятным названием «дилемма заключенного». Или «проклятие общего ресурса». В данном случае ресурсом является уменьшающаяся по мере вооружения участников устойчивость мира. Увеличения вероятности выстрела висящего над нами Всемирного ружья. Постепенно на войну стало уходить все больше ресурсов. Промышленность, затем наука, теперь и культура. Идет война идей, война информационных фронтов. Теперь людей можно не убивать, а массово «обращать в другую веру». Еще не так давно война была вполне приличным занятием, и, чтобы начать ее, не требовалось причин, кроме готовности и доблести правителя. Впрочем, и до сих пор еще слово «завоевать» имеет вполне приличный смысл. Можно завоевывать внимание, положение… В «Илиаде» война через мир объясняется – используются метафоры мирного труда, а у нас в 30‑х более доходчивыми были другие сравнения: «битва за урожай» и «трудовой фронт». Но не будь войны 1914 года и долгой Гражданской, во Вторую мировую, может быть, пришлось бы и туже. В войне, как в драке, – важен опыт.
И в заключение пару слов про наше устойчивое выражение «Пир во время чумы». Понимаемое чаще всего однозначно – чуть ли не как «кому война, а кому мать родна». Между тем у Александра Сергеевича всегда взгляд объемен. Недаром последняя строка приглашает к раздумью. Главный герой следует древней традиции, значительно более старшей, чем христианская. Антиковед Ольга Фрейденберг пишет, что «в античности, в Риме особенно, когда случалось бедствие (мор, смертельная опасность, война), сейчас же прибегали к… всякого рода культовым и общественно‑обрядовым трапезам, это была искупительная жертва, избавлявшая от смерти». Наши давние предки не считали даже смех на похоронах кощунством. А потеря членов сообщества только укрепляла коллективистский дух. Пушкин, с детства наполненный античностью, конечно, знал и чувствовал эту традицию. Вот его «молодые» строки: «Веселье! будь до гроба/ Сопутник верный наш./ И пусть умрем мы оба/ При стуке полных чаш!» Или: «Смертный миг наш будет светел...» Пир во время непреодолимого бедствия – освобождение, вызов, насмешка над смертью, плевок в палача. Отчаянная реализация оставшейся свободы. И философ‑раб Эпиктет задолго до Декарта обозначил суверенность мысли: в любом положении у человека остается свобода выбора – о чем думать. Так что, прежде чем думать, – подумайте.
НГ